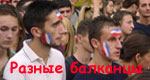Антология сербской поэзии: Пер. с сербского / Сост., пред. А.Базилевского. — М.: Вахазар; РИПОЛ классик, 2004
Антология Базилевского построена образцово. На каждого из 25 авторов — 30—50 страниц, стихи набраны друг за другом, в подбор, для первого знакомства этого, наверное, достаточно, даже можно попытаться уловить эволюцию поэта (хотя жаль, что большинство стихов не датировано). Антология Базилевского включает только авторов 1898—1939 годов рождения. Предполагаются том более ранних и том более поздних поэтов, но их пока нет, а антология Гловюка и Числова доведена до Андрии Радуловича, родившегося в 1970-м. И есть все же свое преимущество у билингвы — пусть в России немногие знают сербский, но, может быть, кто-то глубже войдет в язык именно благодаря стихам, кто-то сможет почувствовать хотя бы звучание...
Для разговора о стихах необходимо вначале обращение к истории. В России часты жалобы на тяжелое прошлое — не тяжелее ли оно у Сербии? Более пяти веков турецкого владычества (некоторые части страны были освобождены от турок только в 1912-м, ста лет еще не прошло). Крупные восстания, жестоко подавлявшиеся, и ежедневные притеснения и казни. Несколько освободительных войн. Войны с соседней Болгарией. После всего этого, уже в ХХ веке — две полные оккупации, в 1915—1918 гг., когда Сербия, после упорного и успешного сопротивления Австро-Венгрии, была раздавлена с привлечением большой германской армии, и в 1940—1944 гг. — гитлеровская. На таком фоне можно понять, что смерть мужчины от старости, в собственной постели, воспринималась как аномалия, если не позор. Любомир Симович спрашивает мышь, которой надоели кошки и мышеловки: “А ты никогда не задумывалась,// никогда себя не спрашивала —// почему Белград// мечтает стать мышью?” (Хотела ли стать мышью Москва?) И потому Десанка Максимович смотрит на луг — и видит смерть: “Души усопших трав// вьются еще над покосом”. Поле — это поле боя. Собранные цветы тоже воспринимаются как убитые. И хлеб, выращенный в неволе, горек.
Постоянное ощущение утраты и непрочности. Вернуться в начале мая? “Но только уж не будет, так и знай,// ни мая, ни весны, ни края” (Д. Максимович). Человек — самое хрупкое. “И упадут они на колени// А и колен-то нет” (Васко Попа). Но не находится ли в этой ситуации каждый, может быть, жизнь в катастрофе только помогает лучше почувствовать это? “Ибо времени мало// и больше оно не придет” (Мак Диздар).
И пессимизм для серба был непозволительной роскошью. Если перед глазами — серый пейзаж, то нужно или лечить зрение, или создавать другой вид (Мак Диздар), альтернатива предаванию мировой скорби не рассматривалась. Вновь и вновь отстраивать разрушенные дома. “Сизиф был сербом” (Иван Лалич). Храм сожгли — на его пепле дьяк учит детей, “горсть кукурузных зерен// служит пособием для объяснения// четырех арифметических действий// и пищей” (Л. Симович). Вряд ли в Сербии были в ходу идеи о башне из слоновой кости. Когда “хлеб на столах дымится”, “в помойках худые длинные руки// бога пропавшего ищут не находя ничего” (Мак Диздар) — нужно помочь, дать то, чем человек располагает всегда, — себя. “Сквозь терновник острый вас босыми гонят,// Я как мост под ноги вам кладу ладони” (М. Диздар). А кроме ладоней ничего и нет. “Как мне построить// В этом недобром поле// Шатер для тебя из своих ладоней” (В. Попа).
Но история формировала и другое. Представление, что зло всегда извне — черепа повстанцев, вмурованные турками в башню, или немецкие бомбы на Белград. А свой прав, потому что он свой. Наши верующие — самые верующие: “носят Бога в сердце// и тихо, словно во сне,// молятся ему”, не то что на Западе. У вас изобретения и машины, а у нас “зато все натуральное, как глина,// и здоровое:// и смерть, и жизнь, и рождение” (Д.Максимович).
Однако большинство поэтов 1898—1922 годов рождения, от Душана Матича до Васко Попы, безусловно, европейцы. Они успели воспринять сюрреализм. Успели освоить свободный стих. (Сербский близок к русскому, но в Сербии не стали настаивать на своем особом пути, рифмующем до гроба. И не стали превозносить верлибр как непременное условие современности. Верлибр и метрический стих благополучно сочетаются как у отдельных авторов, так и в поэзии в целом.) Очень многие закончили философский факультет Белградского университета. (Видимо, в Сербии, как и в России, из-за неразвитости философии, ее функции во многом брала на себя литература.) Практически все — переводчики, часто с нескольких языков. Стихи Матича захватывают и яркостью образов (“босые звезды затаились глазами зебры”), и упругостью внутренних изменений строки (“нет не временный он не ветреный,// нет он тенистый тернистый// он — я, он — ты, он — желтый конь или вопрос”), и яростной риторикой проклятий (“чтобы черную сжег ты гортань ожиданий// растоптал все цвета путешествий своих”).
Другой участник сюрреалистского движения — Марко Ристич. “У них свои хутора, свои юмора, и свои курии и свои смеюрии, своя недвижимость и своя неслышимость, свои фабрикандии и свои сифилософии. У них свои тенефории и свои крематории, свои кремы, свои редьки да хрены, свои схроны для своих гремуче-ползучих наподлеонов и для своих акакакций.... У них свои премьеры и свои реплизы, и свои монашки лизы, свои сахерторты и лаковые мазохизы...” (Это шедевр не только поэта, но и переводчика. Кажется, А.Базилевскому по силам все, от философской лирики до детского стиха. Как составитель антологии, он говорит, что многие переводчики его подвели и пришлось спешно заполнять бреши своими силами. Но, похоже, это только улучшило антологию. Хотя среди собранных Базилевским переводчиков многие также справились прекрасно — например, А.Шарапова, М.Карасева.) Свобода Ристича не меньше, чем Матича. “Я изменялся с каждым ветром неизбежного моря... Зови меня как угодно я как чужая память говорящая тут и там”. И женщина-время идет через город, “вплетая в свои волосы все усталые сны”. Кто-то впадал в неслыханную простоту, а Ристич писал стихотворение с эпиграфом из Лотреамона: “Разожми ладонь на любом перекрестке ночи и крика”.
Лирическая проза Васко Попы сопоставима с предметностью и философией Франсиса Понжа. Постоянная работа: “Как жить неразорванным меж двумя бесконечностями — этой призрачной в себе и этой жестокой и жесткой вокруг себя? Как удержаться на тонкой кожице жизни?” Но Попа еще и очень остро чувстовал трагедию ограниченности и необратимости. Человек обратился в слух и все слышит — “Да только ему надоело// Он жаждет снова превратиться в себя//
Но — без глаз — не видит как”. В мире огненных волчиц и замкнутых шкатулок, где “галстуки перегрызли// горло пустот повешенных...”, Оскар Давичо — пример эволюции, противоположной многим русским поэтам ХХ века. Он начинал с вполне общей гражданской лирики в духе Некрасова, но потом стал все более реагировать на открытия современной ему европейской поэзии. “Что я — указательный палец без визитки// или немощеная дорога?// Мысль, не пройденная до конца,// спотыкается о скелеты, которые не цветут”.
Да и фольклорно ориентированная, с частым “мы” в стихах, Десанка Максимович — с того же философского факультета. Она молится за тех, кто все видит, — которых преследуют и левый, и правый, иконоборец и иконолюбец. И умеет провожать в смерть: “Не бойся, это так быстро, словно капкан негромко// захлопнется и заклубится вкруг нас простор бытия.// Держись за мою руку — она былинка, соломка,// непрочный мосток через речку из сказки про муравья”. Даже если кто-то из этого поколения, как Радован Зогович, писал агитстихи в духе Маяковского, он делал это талантливо. И мог представить себе постаревшего Маяковского, читающего Данте. И был действительно независим (что видно, например, из посвящения Миловану Джиласу — автору теории о партийно-государственной бюрократии как новом классе). И заплатил за это, подвергнувшись преследованиям в 50—60-е годы.
В Сербии вызванная тоталитаризмом лакуна в культуре была короче, и репрессии носили не столь всеобъемлющий характер (хотя были и расстрелянные поэты, и лагеря для инакомыслящих). Но, кажется, истребительная война меньше вредит поэзии, чем относительный мир при тоталитарном режиме. “Человек — это звезды надежды и руки в тоске по работе” — и эти банальности у Матича растянуты на полторы страницы. Но у него еще хватало сил настаивать на индивидуальности: “Ни один лист не равен другому”. Хватало на иронию: потерянный рай — всего лишь Ботанический сад. Авторам следующего поколения получить независимую культурно-мировоззренческую основу уже не дали. И перелом очень заметен. У Миры Алечкович (1924) стихи уже существенно упрощены, хотя свобода остается даже не высшей ценностью, а единственно возможным условием жизни: “В саду твоем для моих ступней всегда зеленела трава.// В дому твоем для ладоней моих всегда полыхал очаг.// В глубине твоих глаз для моих всегда находился приют.// Но сердце мое не держал ты в плену,// не ставил ловушек ему// ни в глубинах глаз, ни в саду, ни в дому”. А Бранко Радичевич (1925) или Славко Вукосавлевич (1927) много прямолинейнее и патетичнее. Вариации на тему “кто к нам с мечом придет”. Попытка компенсировать отсутствие глубины внешними впечатлениями: Бирма, Индия, Греция. Наивный утопизм. “А везде, где веками войска обожали сражаться,// обязать влюбленных целоваться и обниматься” (Бранислав Петрович). Кто-то, как в СССР, ушел в детскую поэзию, в переживания школьника: “Она спросила: знаю ли я?// Я сказал: не знаю!// Ответ-то был правильный,// но мне поставили двойку” (Душан Радович).
Видимо, социалистический режим вогнал людей в тоску успешнее, чем турки. Вот тогда в сербской поэзии появился пессимизм. Редкий декадент сравнится со Слободаном Марковичем (1928): “Мне кажется, милая, что я болен смертью”, “Все прах. Сумасшествие. Спокойствие. Все прах.// Моя надежда прах. Ибо надежда не видит в тумане”. Те же мотивы одиночества, пустоты, сна, сумерек — у Стевана Раичковича. Застывшая жизнь: “Нам кажется, все лето простояли// Мы в столбняке, не сделав ничего”. Герою Бранислава Петровича тяжко, что он человек — хочется стать хоть бы дверной щеколдой, сном сумасшедшего, сердцем краба. А Муза — “черепаха без древних луж, птица без воздуха будущих времен”.
Но пессимизм — более достойный выход, чем бодрые стихи о родине и партии. Поэтому поэзия постепенно стала оживать. У Миодрага Павловича и Мирослава Антича возвращается философская тематика, хотя еще слишком логично для стиха: “Доказательство — не в истине, Она всегда истинна. Доказательство — в искусстве применения истины” (М.Антич). Изет Сарайлич начинал с вполне советских заклинаний: “чтобы от взрывов не плакали дети... чтоб помирились все люди на свете”. А закончил совсем другим призывом: “Эй, революционер,// давай не будем изменять мир... Мир этот удивителен,// каких только нет в нем чудес для души и глаза... На какой же это лучший мир готов ты его променять?” Возвращается взаимодействие с иностранной поэзией. Космически-эпическое изображение любви у Ивана Лалича кажется связанным со стихами Пабло Неруды: “Я сотворяю птицу из воздуха и огня.// Чтобы она понемногу сгорала// В твоем огне, в воздухе вокруг тебя”. Возвращается сложность. “Город на правом, а ветер на левом берегу” — в этой строке Лалича уже слышна проза Милорада Павича.
Обращение к традиции также не обходится без издержек, если понимается слишком прямолинейно. Видимо, Бранко Милькович был слишком поглощен русской поэзией Серебряного века, которую переводил, и начал с венка сонетов в духе Вяч.Иванова или с клишированно-перегретой эмоциональности (“Так воздать соловьям, чтобы плакал воздух”). В данном случае влияние свободного стиха, видимо, действительно было освобождающим: “А что есть огонь? День всех// вещей, лишенных собственного времени”. Приходит понимание, что нельзя целовать прошлому руки, и “покрытый жухлой листвой излишне воспетых лесов// поэт слагает стихи наперекор поэзии”. Но Милькович погиб в 1961-м, в 27 лет... Алек Вукадинович из повторения выбраться не смог. “Ни усталости ни злости —// Сон уже не превозмочь// Озаряя профиль гостя// Лампы свет струится в ночь” — и так далее. Полный набор мировой скорби. “В такой пейзаж — зачем родился?// страдалец, сил своих не чуя// едва рожден — уже изгнанник...”; “Дыханье смерти длится вечность... все безнадежно и постыло”; “злое время, в мире стужа// Тлен, безумие и ужас” — три стиха, три разных переводчика, но отличить трудно. В справке об авторах антологии Гловюка и Числова Вукадинович охарактеризован как “художник со сложным ассоциативно-символическим видением мира как средоточия космической гармонии и дисгармонии”, и с этим тоже трудно согласиться.
Почвенный вариант выглядит очень сомнительно и в Сербии. То, что получается у Вито Марковича, напоминает скорее Д.А.Пригова: “Кто стремится жить жизнью особой// Словно казнь народного героя// Должен быть на свой народ похожим// Как ребенок на отца родного”. А у Добрицы Эрича стремление к народу (опять-таки без тени иронии в начале стихотворения утверждается: “Заглавие взято из одной старой книги, слова — у народа, слезы — у детей, а тоска — моя”) выливается в картину Вождя Слободана Милошевича, бьющегося с семиглавым драконом, как Святой Георгий. “Христос сегодня — Сербия моя!”. Причем, судя по одному из стихотворений (помеченному “Кортедала в Швеции”), сам народный поэт предпочитает находиться в безопасном месте, от народа подальше.
Реальный ответ сербских поэтов — горечь понимания. Еще Десанка Максимович не идеализировала народ, показывая, как нищие бьют нищего — за неверие, за плохих друзей, за все... Любомир Симович напоминает о фальшивости общества (только ли социалистического?): “Невесту свою мы нулем обручаем!// И даже героев встречаем нулями!// И нашу державу, мы знаем, мы верим,// удержат нули, как обручем бочку!” Приходит понимание вины своих: солдат возвращается домой — “в доме пусто — ни горшка, ни табуретки:// что солдаты не разграбили, за тем// приходили расторопные сельчане!” (Л.Симович). Горькую историю рассказывает Петар Паич: “Серб (упрямство ли виновато)// хватанул топориком брата.// Когда на кладбище брат поселился,// серб опечалился и напился.// Пусто в доме; стало казаться,// что не с кем будет ему подраться!...// Серб догадался и жребий уел,// взял веревку — повесился, повеселел”. Приходит попытка понимания чужих — и сознание ее обреченности. Те, кто понимает речь животных, не могут их убивать, возвращаются из леса с пустыми руками и прокляты односельчанами и женами (Миодраг Павлович).
Один из наиболее концентрированных примеров осознания вины, отказа от фальши, в том числе и родной-признанной, — в стихах Матии Бечковича. Поэзия начинает с себя. Бечкович обращается к “дежурному поэту” Е.Е. (не Евтушенко ли?): “Из Сибири ты явился, чтобы твердить нам о неграх... Ты открываешь зло, известное первоклашкам.// Ты единственный заработал на борьбе с нищетою.// И наелся, распевая про чужой голод”. Продолжает расчетом с политикой. Поэма “Че” (написанная вместе с Душаном Радовичем) — о трагедии жертвы, выгодной не боливийским крестьянам, а партийным бюрократам. “Да будет проклята идея, которая его убила... Да будет проклята слава мертвых.// Да будет проклята жизнь, которая от них отреклась”. А с трибун несется: “В наших сердцах вечно будет жить ночь с 1 на 16 февраля!... Не затмятся светлые лики 34 мая!.. Наш священный долг возглавить вас и вести к неизбежной победе!” Кто откликается? “Я верил, что был обездолен,// а был ни к чему не способен.// Я думал, мне больно оттого, что кругом неправда,// а у меня болел зуб”. И человек начинает убивать — вместо того, чтобы утолить голод. Жаль, что нет даты написания. Но предчувствие гражданской войны в сербском обществе явно жило давно. Есть турецкая пытка — привязывание к мертвецу. Но к мертвецу или к мертвой идее, “бывшей вере, околевшей надежде” можно привязать и целый народ. Народ? “Одни и те же люди// Были сталинистами и антисталинистами// Титовцами и антититовцами...// Богоборцами и богоискателями...” — сфотографировать бы их в разных ролях и расклеить по перекресткам, чтобы народ посмотрел. Да есть ли народ? “Да народа больше и не было,// Это были какие-то остаточные люди,// Останки убиенного народа,// Прозябающее население, заброшенное и страшное”. Сербский народ есть — и он смог освободиться от Милошевича. Но предупреждение стоит послушать, и оно — не только сербам. И не только сербскому солдату вспоминать своего противника, осознавая, что сам не лучше: “Налетел на меня душегуб,// Оскаленный,// Голова в огне, безумный,// С гнусной рожей// И взглядом кровожадным.// Наверное, и сам я// Так же выглядел”. Стрелять в него — словно в зеркало. Казалось, что попал — а “теперь он живет во мне,// А здесь в церкви Ружице// Моими устами говорит”. И кто же кого убил?
Насколько сербское общество в состоянии выслушивать эти уроки? Судя по последним событиям, в определенной степени — да. Насколько в состоянии выслушивать их общество российское? В примечаниях к антологии Базилевского сказано: Радован Караджич — “легендарный лидер боснийских сербов”, Слободан Милошевич — “стойкий защитник интересов своего народа”. Только вот еще десятилетия будут находить и опознавать трупы боснийских мусульман и косовских албанцев, расстрелянных по приказам этих “легендарных” и “стойких”. Вина босняков, албанцев, хорватов перед сербами есть, и немалая, но это их вина, не отменяющая вину Сербии. И вряд ли таким поэтам, как Бечкович или Симович, нужны Милошевич с Караджичем.
Бечкович родился в 1939-м. Антология Базилевского закончилась. Что дальше?
Источник: Журнал "Дружба народов", №8. 2005.